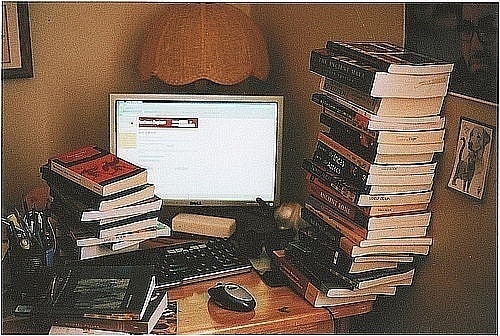 В связи с очередным весенним обострением российско-украинской дружбы меня как человека с фамилией, оканчивающейся на «-ко», начали с разных сторон забрасывать вопросами о том, как я к этому всему отношусь и нет ли у меня родственников на самой Украине.
В связи с очередным весенним обострением российско-украинской дружбы меня как человека с фамилией, оканчивающейся на «-ко», начали с разных сторон забрасывать вопросами о том, как я к этому всему отношусь и нет ли у меня родственников на самой Украине.
В ответ я терпеливо объясняю, что родственники если какие и сохранились – то настолько дальние, что связи с ними фактически нет, что даже отец родился в эвакуации на Урале и жил на исторической родине лишь те десять лет, когда ходил в школу, и что я все новости воспринимаю наравне с другими телезрителями, временами, впрочем, пользуясь возможностями Интернета и подключаясь то к прямой трансляции с Майдана, то к какому-нибудь украиноязычному телеканалу.
Выводы из зрелища, надо сказать, напрашиваются невесёлые. По сути, единственный плюс в произошедшем – это ещё одна мощная прививка против инфантильного оптимизма, против наивной веры, что путём революции ли, путём выборов ли, можно поменять насквозь прогнившую воровскую систему на что-нибудь более справедливое. Увы, государство – хищник, не поддающийся дрессировке, и здравомыслие в наше время – это иметь мужество жить, помня слова классика о том, что «нет правды на земле, но правды нет и выше». Но так ли тонка ниточка, связывающая меня с Украиной? Так ли мало заложено в этом самом коротком слоге «ко»?
На Украине мне пришлось бывать три раза. Все три – в пору, когда это было ещё не заграницей, причём один раз – в таком несознательном возрасте, что даже и вспомнить нечего. Все три раза то ли по причине неблагоприятного климата, то ли из-за деревенской антисанитарии я надолго заболевал, что заметно портило общие впечатление. При этом жара, совсем не типичная для нашего августа, широкая степь со светящимися вдалеке в сумерках газовыми вышками, сосновые леса, казавшиеся настолько прозрачными, что в них, наверное, невозможно ни спрятаться, ни заблудиться, города, каким-то чудом сохранившие свою средневековую архитектуру, остались в памяти как яркие цветные картинки.
Понимать украинский язык я так по-настоящему и не научился – ну разве что в общих чертах могу уловить смысл какой-то не слишком сложной фразы. В детстве мне неоднократно попадались журналы на украинском, рассчитанные на мой тогдашний возраст и какое-то количество стихов из них сами собой выучилось наизусть. «У одного чоловика борода була велика. Борода – як борода, тильки сталася беда…» – а беда заключалась в том, что в бороде у мужика птички начали вить гнёзда. Нехитрый такой народный юмор, но у меня из-за языкового барьера иногда получалось и смешнее. Например, читая стихи о трудовых буднях советских моряков, можно было наткнуться на строчку: «Тяжко танкеру, ох, тяжко, стильки вин в себя набрав…». Ещё не догадываясь, что «вин» соответствует нашему местоимению «он», я рисовал в воображении танкер, трюмы которого загружены вином: вся команда перепилась в стельку и ей тяжко-тяжко… Примерно на таком же уровне у меня складывались отношения и с белорусским языком, когда я слушал по радио «Песняров» или, будучи проездом в Витебске, покупал их юмористический журнал «Вожик» – аналог нашего «Крокодила» – и пытался врубиться в их анекдоты, к счастью, тоже оказывавшимися кальками с крокодильских.
По-настоящему хорошую литературу народов СССР я всё-таки предпочитал в хороших переводах. Что-то теперь вспоминается с недоумением, что-то с ностальгией, а кое-что удивительно рифмуется и с днём сегодняшним:
* * *
На майдане возле церкви
революция идёт.
– Пусть чабан за атамана,–
загудели все, – пойдёт!
Ну, прощайте, ждите воли! –
гей, по коням все и в путь!
Закипело, зашумело –
только прапора цветут…
На майдане возле церкви
стонут матери в слезах:
освети ж ты им дорогу,
ясный месяц в небесах!
И пускай себе, как знают,
С ума сходят, умирают, –
Нам своё творить:
Всех панов в одной мы яме,
Всех буржуек с буржуями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Эти строчки написаны не вчера. Они принадлежат перу Павла Григорьевича Тычины. Жаль, но для того, чтобы оценить по-настоящему, как точно – вплоть до незначительных деталей, способна повторяться история, надо либо жить очень долго, либо внимательно изучать свидетельства очевидцев. Меня никто в школьные годы не заставлял разбираться в поэзии Леси Украинки, Максима Рыльского или Владимира Сосюры, но я почему-то набрёл на всё это сам, копаясь в пыльных библиотечных томах – и Украина с тех пор у меня ассоциируется именно с этими именами. А также – с двумя великими сатириками и фантастами – Михаилом Булгаковыми и Николаем Гоголем. Последнего полюбить всего, честно говоря, не помог даже университетский филфак – «Мёртвые души» и сейчас кажутся несколько скучноватыми, а «Тарас Бульба», воспевающий романтику братоубийственной гражданской войны и имеющий мало общего с историческими реалиями XVII века! Но «Портрет», «Невский проспект», и, конечно же, большая часть «Вечеров на хуторе»!.. Вряд ли в отечественной прозе ещё найдёшь писателя, умевшего пугать настолько талантливо, что после него какой-нибудь Эдгар По абсолютно неинтересен! Впрочем, пойди, разберись, чей он больше – украинский или русский! «Он – поэт, он на белом свете живёт!» – как говорилось когда-то в культовом фильме «АССА».
Вот и получается парадоксальная вещь. Оказывается, всё великое, сколько бы в нём ни было национального колорита, принадлежит не каким-то отдельно взятым народам, а всему человечеству, попутно делая великими и народы. Живёт, допустим, где-нибудь в джунглях племя папуасов. Хорошо живёт – свежий воздух, лето круглый год, бананы-кокосы всегда под рукой, и сами они люди милые, к каннибализму не склонные, да вот беда – их вклад в мировую культуру, мировую историю равен нулю. По барабану им, что были на свете Моцарт и Достоевский – а остальному миру всё равно, существуют ли эти папуасы. И это положение дел, увы, безнадежно, ибо только культура помогает найти общий язык с любым соседом, со своими корнями, связь с которыми как будто напрочь утрачена, а может быть даже и с космосом.
А с самим собой? Одна моя знакомая жутко переживала, прямо места себе не находила из-за того, что в паспортах нового образца отсутствует графа «национальность». Я у неё спрашивал: «Неужели ты без этого не знаешь, что ты русская?» «Знаю, конечно, – ответила она, – но пусть об этом хоть где-то будет написано!». Если учесть, что девушка разговаривала в основном штампованными фразами, позаимствованными из третьесортных голливудских фильмов, утрата спасительного «хоть где-то» действительно вырастала в трагедию глобального масштаба.
А для меня это вообще никогда не было проблемой. Я всегда знал, что я русский потому, что говорю и думаю по-русски. Вот почти сразу, как совершил удивительное открытие года в два, что у меня в голове кто-то сидит и постоянно разговаривает и что это называется «думать», узнал и принял как данность. Без лишнего пафоса и гордости – просто получил в руки ключ, открывающий все двери, стирающий грани между «нашим» и «не нашим». Ибо всё, что я люблю в этом мире, – уже моё.
Я родился и прожил большую часть времени в Карелии. Во мне нет ни капли карельской крови, но Карелия мне всегда была близка и понятна. Мне кажется ненормальным, если в июне нет белых ночей, и на ночной пейзаж у себя за окном могу любоваться до бесконечности. Я очень люблю калитки, тогда как борщ – совсем наоборот. Я не знаю ни слова по-карельски, а по-фински – только два слова, одно из которых – не очень-то обидное ругательство, но считаю финно-угорские языки очень красивыми, мелодичными и музыкальными. Здесь всё родное, тёплое, уютное, тогда как в любой другой точке земного шара нечем дышать. Карельские сказки и «Калевалу» я в детстве, естественно, читал по-русски, что совсем не мешало оценить их мистическую прелесть и отражённые в них особенности местного менталитета.
А ещё, едва научившись читать, я стал проглатывать один за другим сборники украинских, белорусских, среднеазиатских, ещё невесть каких сказок, кажется, совсем не замечая их экзотического происхождения. Что с того, что в таджикской версии сказки про козу с семью козлятами козлята звались непроизносимыми именами, среди которых запомнился разве что Саританур Хиштаки? Что с того, что любимым героем легенд народа манси, если верить Ювану Шесталову, звали Эквапыгрысь? Рождённые в СССР не удивлялись, что есть в стране места, где у людей совсем другие имена, быт, привычки. Мне лично даже интереснее было узнавать о жизни тех, кто не похож на меня и мечтать когда-нибудь увидеть всё это своими глазами. При всём при том слово «толерантность» в моём лексиконе не приживётся. Ведь оно буквально переводится как «терпимость»: мне мерзко, тошно, но я терплю, соблюдая приличия! Какая может быть терпимость к тому, что в принципе никому не мешает?
Среда, окружавшая меня, тоже была достаточно интернациональная. Каких только фамилий не было в нашем классе – и никто даже не задумывался над этим ни на минуту. Моего соседа по парте, например, звали Виталий Штахель, и я до сих пор не знаю его национальности, а тогда пеналом по башке бил не за то, что он Штахель, а за то, что много врал и совал нос куда не следует. Говорят, будто один парень, учившийся двумя классами младше, – татарин, кажется, по ночам слушал радиоголоса на родном языке и время от времени высказывался неприязненно о русских – но над его причудами тихо посмеивались. Как и над резнёй, начавшейся весной 1988 года в Карабахе – мол, мы тут серьёзными делами заняты, перестройку делаем, а эти дикари в горах… Вероятно, по малолетству мы всё-таки чего-то не знали и не замечали.
А масштабы военных действий, охвативших Кавказ в конце 80-х, кажется, плохо себе представляли даже мастера культуры. В период недолгого затишья Евгений Евтушенко, например, опубликовал стихотворение «Непересекаемый платок», в котором призывал армян с азербайджанцами – а заодно и всё человечество, вспомнить старинный горский обычай: если назревает драка, женщина бросает на землю платок между ссорящимися, и те, помирившись, вынуждены расходиться по домам:
О, если бы
и космос целиком
во имя и России,
и Америки
стал
непересекаемым платком
для ядерной резни –
мы все не смертники!..
Теперь уже очевидно, что лёгкая промышленность Советского Союза не смогла бы произвести столько платков, сколько понадобилось бы для улаживания всех конфликтов. Слишком много мин замедленного действия оказалось заложено в межнациональных отношениях и как их обезвредить с наименьшими потерями, пока ещё не придумал ни один политик. Всё, что нам под силу – это разобраться, где именно они могут быть заложены и кто именно их заложил. А ответ может лежать на поверхности где угодно – например, в наших с вами вроде бы далёких от политики музыкальных увлечениях.
Скажем, мне со школьных лет очень нравилось творчество певца и композитора Тараса Петриненко, имя которого для Украины значит примерно то же самое, что для России имя Игоря Талькова. Российская пресса если и пишет о нём, то только как об организаторе пикетов и демонстраций протестов, происходящих время от времени во Львове в связи с гастролями очередных наших попсовых фонограммщиков. Протестуют там, естественно, не против фонограммы, а против москалей. И, казалось бы, какие могут быть обиды на братьев-славян у человека, когда-то мелькавшего на экранах Всесоюзного телевидения в самых популярных развлекательных программах? Погружаешься в его биографию – и выясняешь, что поводов предостаточно. Дело в том, что в 70-х годах украинская эстрада добилась такого высокого профессионального уровня, что сделалась очень модной повсюду, более того – заставила сочинять на мове многих столичных звёзд. Однако консервативно настроенным чиновникам от культуры и композиторам старшего поколения однажды пришло в голову запретить записывать и транслировать по радио обработки местного фольклора в исполнении ВИА. В результате эстрадная жизнь в республике затихла почти на десять лет – до самого начала перестройки, многие музыканты отправились искать счастья в Москву или вообще сошли с дистанции.
Петриненко удалось сделать кое-какие успехи, но как его гнобила критика за одну только чересчур грустную лирическую песню про перелётную птицу – тема для отдельного рассказа. Можно ли простить системе десять лет молодой жизни, потраченных на мелкую халтурку и попытки удержаться на плаву? Вряд ли. Вот и Петриненко не может, даже сделавшись национальным героем и автором неофициального гимна Украины. Понятно, что запрет придумали свои же местные поборники чистоты жанра. Но он был благословлён режимом, наследником которого считает себя и нынешний Кремль. К тому же старательное выдавливание из республик бывшего Союза самой талантливой части интеллигенции, происходившее почти везде, привело к деградации национальных элит задолго до Беловежской пущи. Разумной, взвешенно мыслящей и способной эффективно работать «золотой середины» не осталось и всем пришлось выбирать между коммунистами и националистами. Люди, искренне болевшие душой за родину, обречены были оказаться в рядах последних – и в этом трагедия как Тараса, так и многих его коллег.
Всего лишь частный случай, отдельно взятая судьба. А прибавьте теперь к ней все революции, репрессии, голодоморы, войны, неоднократно перекраивавшие карту мира то в ту, то в другую сторону – и получится, что нет в мире никого, на ком бы не лежал кусочек коллективной вины. И выхода из тупика нет.
Вот только линия фронта в этой войне всех со всеми пролегает вовсе не между народами, а между политиками-бюрократами и всеми остальными. Бюрократии выгодно, чтобы под её началом находились сплошные «папуасы» – дремучие, невежественные и агрессивные. Такими легче управлять, легче делать промывку мозгов через средства массовой информации. Люмпен с портретом Сталина ли, Бандеры ли, Че Гевары ли – неважно. Лишь бы не Пушкин и не Шевченко, потому что искусство заставляет думать самостоятельно, пробуждает совесть, в общем, мешает проводить политику под лозунгом: «Разделяй и властвуй!». Культура же с ярко выраженным колоритом – вообще предмет страшных снов бюрократа. Ведь стоит нам только прикоснуться к ней, забывая предрассудки – и сразу лучше начинаем понимать и соседей, уже не кажущихся нам врагами, и самих себя.
Разделяй и властвуй! Оторви человека от культурных корней – и ты можешь делать с ним всё, что угодно! Помню, какое омерзение в школьные годы уже в младших классах у меня и у моих ровесников вызывало само словосочетание «народная музыка»! С учителем пения мы учили и потом хором пели какие-то странные куплеты о том, как девушка ходит с вьюнком в руках и то на левое плечо его положит, то на правое, вместо того, чтобы выбросить и заняться более осмысленными и полезными делами. О том, что за всеми этими действиями стоит какой-то древний обряд, какая-нибудь народная магия, что мир, окружавший наших далеких предков, вообще был куда чудеснее и сложнее нашего, нам никто не рассказывал. Скучнее русского фольклора могли быть только книжки с длинными описаниями природы и фильмы про деревенскую жизнь – хоть дореволюционную, хоть современную.
Только в студенческие годы, на филфаке меня убедят, что в сказке заложена бездна очень серьёзного смысла, что народное творчество – основа всей мировой литературы, а не бредни первобытных дикарей, а я уже самостоятельно, через отражённые в фольклоре архетипы, начну совсем иначе глядеть на всё вокруг, замечая русские черты даже там, где их вроде бы не может быть. Для меня станут русскими и Омар Хайям, и Данте, и даже The Beatles. У духовных ценностей, в отличие от материальных, есть удивительное свойство: чем больше ты ими делишься с другими, тем больше их становится у тебя. И всё, что создано изобретательным человеческим умом, всё, что расширяет мой кругозор, меняет меня к лучшему и вдохновляет на творчество, я готов считать нашим национальным достоянием, даже если это не понравится крутым патриотам – поклонникам исконной матрёшечной эстетики.
Будучи в школе троечником, я тем не менее запомнил из учебника химии одно замечательное понятие – «валентность», то есть способность атомов какого-то вещества вступать во взаимодействие с другими атомами и создавать самые разнообразные, в том числе и очень сложные соединения. Не знаю, почему это слово до сих пор не перешло в область культурологии, но, по-моему, именно способностью к неограниченной валентности, к умению заимствовать всё лучшее у других и оказывать такое же мощное влияние в ответ великая культура отличается от «папуасской». Можно, конечно, отгородиться от всего остального мира, сделать вид, будто нам никто не нужен, но разве не восхищает вас парадокс, что поколение аристократов, говоривших по-французски лучше, чем по-русски, создало гениальную русскую литературу, написанную, кстати, придуманной не нами кириллицей? По сути, так называемый «особый путь России» и состоит в том, что мы можем ходить везде, где нам вздумается и брать всё, что нам понравится.
Это я сейчас не об истории с Крымом. Хотя… и о ней тоже!..
На наших глазах лопнула по швам и умирает в муках целая страна, в которой единственным объединяющим началом был интерес к российскому газу. Россия, между прочим, сидит на той же трубе и с «духовными скрепами», о которых так любят рассуждать политики на досуге. Здесь дело обстоит немногим лучше, так, что кто может оказаться следующим, для меня лично не вопрос – только у нас это будет гораздо больнее и страшнее. Ведь даже родной язык уже никому не помогает договориться по-человечески.
Всю эту зиму и весну за речами многомудрых аналитиков и записных пропагандистов, за салютами и проклятиями оказались никем не услышанными голоса таких людей, как, например, Ада Роговцева и её коллеги по Ивано-Франковскому театру, пытавшимися на грамотном русском языке разъяснить, что, возвращая маленький кусочек земли, Россия ломает многие сохранившиеся ещё с советских времён культурные и человеческие связи: «К моему 70-летию я получила почётный, дорогой для меня орден Дружбы Народов. Наши народы были и будут всегда дружны. Я прошу от имени всех матерей, всех людей Украины: пощадите наш народ! Не должно быть войны! Так не должно быть!..»
Авторы и участники подобных интернетовских роликов уже получили большие проблемы как по ту, так и по эту сторону границы, угодив в списки «национал-предателей». Когда говорят пушки, музы должны заткнуться. Так в мире границ становится всё больше, а в поле зрения – всё меньше людей, с которыми есть о чём поговорить по-русски ли, по-украински ли, вообще есть о чём поговорить.
Ещё немного – и я начну жалеть, что родился на свет не папуасом…


