На смерть Евгения Евтушенко
Сегодня девятый день со дня смерти Евгения Евтушенко. Поэт будет похоронен 11 апреля в Переделкино
«Мы все, кто любит русскую литературу, переживаем его смерть как потерю близкого по духу человека».
Поэт в России больше, чем поэт.
Евгений Евтушенко
Много лет тому назад, в 1970-х, мы с моей женой Ириной слушали в узком салонном кругу, как Белла Ахмадулина читала своё новое стихотворение:
Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь –
при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли…
О чем, бишь? Да о друге знаменитом,
Свирепей дружбы в мире нет любви.
Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем и все в укор ему.
Любовь моя – вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.
Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветанья щек.
А слава что? Она – молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.
О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но, чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.
Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: – Страшись. Дурная весть.
– О нем? – О нем.– И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: – Он умер.
А ты держись. Иди к его жене.–
Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.
Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.
О, путь моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву –
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.
Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив – и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

Стихотворение и то, как Белла Ахмадулина задумчиво-напевно читала его, — всё нам понравилось, но тогда все мы были ещё молоды и слышать о том, что Белле приснилась смерть «знаменитого друга», казалось странным. Она была первой из четырёх жен Евтушенко, когда они оба были ещё юными. И конечно, он мог сниться ей. Но нам такое не снилось. Все мы просто с живым интересом читали стихи Евтушенко, следили за его беспокойным творческим ростом.
Но вот прошло более 40 лет, и уже давно не стало самой Беллы, но свершился тот её сон — умер знаменитый «Евтух», как звали его между собой друзья.
Я был мало знаком с ним, две-три короткие встречи. Последняя случилась уже в Нью Йорке, в конце 1990-х: мы случайно встретились лицом к лицу, бегая утром для зарядки в Центральном парке. На ходу он только сказал, что Нью Йорк ему нравится, но это не настоящая Америка, а настоящая, исконная — это в штате Оклахома, в небольшом городе Талса (Tulsa). Там он поселился и преподавал русскую литературу в местном университете. У меня было на языке спросить, зачем ему жить не в России, а в Америке, но я постеснялся. (Сам я эмигрировал вынужденно, от глубокой обиды — коммунисты выжили меня, не члена их партии, с работы заведующего кафедрой хирургии. Но я понимал, что Евтушенко из России никто не выживал).
В прежние годы, в Москве, у нас с ним было много общих приятелей: писатели и поэты, в их числе шестидесятники, его ближайшее окружение. Их прозвали так, потому что в 1960-е годы они своим творчеством и активностью возрождали общественное мнение советских людей, подавленных длительной диктатурой коммунистов. Евтушенко был несомненный глава шестидесятников — по своему бурному темпераменту и по большой стихотворной продуктивности стихов-протестов против ошибок старого и нового режима. Он символизировал культурный рассвет и новое направление поэзии, как Василий Аксёнов символизировал новое направление прозы и был за это выслан.
Евгений Евтушенко ярче всех выразил своим творчеством короткий период хрущёвской весны, когда Россия и советские республики переживали пробуждение от морального гнёта сталинизма. Тогда впервые стали появляться литературные произведения, клеймившие трагические ошибки прошлого. И как невероятное чудо шестидесятники добились, чтобы власть впервые разрешила молодым поэтам читать нецензурированные стихи в переполненных залах и даже на стадионах.
Слушать их приходили тысячные толпы, особенно молодёжь, у которой были смешанные чувства — непонимание прошлого и недоверие к будущему. Молодёжь бурно реагировала на выступления поэтов и была в восторге, что им впервые разрешили принародно выражать свои чувства. Стихи Евтушенко, и других тоже, но особенно его стихи, возбуждали их гражданское чувство. Цитаты из его стихов и рассказы о нём самом распространялись далеко за пределами круга поклонников литературы.
Шестидесятников всё больше печатали в газетах и журналах, новый журнал «Юность» стал их трибуной. Это тоже было невиданным делом. Я не ходил слушать их на стадионы, но много читал в журналах. И тогда же я слышал от наших общих с Евтушенко знакомых рассказы о нём — то восхищённые, то удивлённые, то осуждающие. Так разноречиво воспринимают только яркую личность.
Беллла точно написала в своём стихотворении:
Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем и все в укор ему.
Евтушенко сам написал в стихотворении «Наследники Сталина»:
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся…» — спокойным я быть не сумею.
Благодаря своему поэтическому темпераменту он «не сумел быть спокойным» и десятилетиями был на языке у всех, приобрёл всенародную славу. Его строчки цитировали в разговорах, его стихи вырезали из газет и собирали. Девушки млели от восторга, если видели его — высокого, красивого, прекрасно одетого. Постепенно его стихи начали переводить на другие языки, и Евтушенко стал известен во всём читающем мире. Такой прижизненной известности до него не достигал ни один русский поэт.
* * *
Я был поклонником его темперамента, с интересом читал его стихи. Но его поэтическое мастерство я не всегда находил достаточно высоким: всё написанное было интересно, но хотелось, чтобы оно было ещё лучше написано. Многие его строчки казались мне недоработанными, как будто он не перечёркивал их по много раз, как делал Пушкин и почти все. Сам Евтушенко частично признавал этот недостаток, но оправдывался тем, что ему хотелось сказать слишком много. По определению выдающегося русского критика Виссариона Белинского, «поэт — это тот, кто переживает и стремится излить это в словах» (1835 год). Евтушенко всегда переживал и стремился излить это в словах, и нередко переполнял не всегда удачными словами свои стихи. По-моему, он грешил подбором приблизительных рифм.
В конце 1950-х годов я жил и работал в Петрозаводске, там начали печатать мои стихи, и я помню, как иронизировал над такими рифмами молодой петрозаводский поэт Марат Тарасов. Он приводил такой пример смысловых близнецов и поэтических несозвучий: «Конечно, так можно рифмовать «шофёр-педаль». И мы вместе смеялись. Впрочем, в этом мог быть свой почерк Евтушенко, как и многих других поэтов. Но русский язык так богат, что нетрудно находить более чёткие и верные рифмы. Я читал его стихи и думал: хорошая идея и яркие образы, но посидел бы он над ними ещё день-два, и получилась бы намного более высокая поэзия. Конечно, я не знал, что «через день-два» его обуревали новые идеи и образы — ему хотелось многое выразить.
Он был талантлив с самого начала. Вот пример его ранней образности и выразительности (наверное, мало кто помнит это стихотворение):
Море
«Москва — Сухуми» мчался через горы.
Уже о море были разговоры.
Уже в купе соседнем практиканты
оставили и шахматы и карты.
Курортники толпились в коридоре,
смотрели в окна: «Вскоре будет море!»
Одни, схватив товарищей за плечи,
свои припоминали с морем встречи.
А для меня в музеях и квартирах
оно висело в рамках под стеклом.
Его я видел только на картинах
и только лишь по книгам знал о нем.
И вновь соседей трогал я рукою,
и был в своих вопросах я упрям:
«Скажите, — скоро?.. А оно — какое?»
«Да погоди, сейчас увидишь сам…»
И вот — рывок,
и поезд — на просторе,
и сразу в мире нету ничего:
исчезло все вокруг — и только море,
затихло все, и только шум его…
Вдруг вспомнил я:
со мною так же было.
Да, это же вот чувство,
но сильней,
когда любовь уже звала, знобила,
а я по книгам только знал о ней.
Любовь за невниманье упрекая,
я приставал с расспросами к друзьям:
«Скажите, — скоро?… А она — какая?»
«Да погоди, еще узнаешь сам…»
И так же, как сейчас, в минуты эти,
когда от моря стало так синё,
исчезло все — и лишь она на свете,
затихло все —
и лишь слова ее…
Это написано в 1952 году, ему было только 19 лет.
* * *
Возможно, на стиле Евтушенко быстро сказалась привычка выступать перед большими аудиториями — выкрикивать строчки. Когда перед тобой сотни и даже тысячи слушателей, привлечь их интерес помогает выкрикивание того главного, что хочешь сказать. Это болезнь всех трибунов, в том числе и поэтических. Для большой аудитории не так важны рифмы, в возбуждённом напряжении слушания они даже не улавливают рифмы. Им не так важно мастерство отделки, им подавай образы и сравнения — они понятней, они их возбуждают и нравятся. Но поэзия — вся поэзия — создана была не для толпы, она должна восприниматься сугубо лично. Поэтому напечатанные те же самые стихи, что звучали на стадионе, теряют часть силы выкриков — с бумаги они уже не могут произвести на отдельного читателя такое же впечатление, как на толпу.
Это, конечно, моё сугубо личное мнение.
* * *
Вот самое знаменитое стихотворение Евтушенко (я сдвинул вместе некоторые раздельные строчки):
Бабий Яр
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно. Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Мне кажется сейчас — я иудей.
Вот я бреду по древнему Египту.
А вот я, на кресте распятый, гибну,
и до сих пор на мне — следы гвоздей.
Мне кажется, что Дрейфус — это я.
Мещанство — мой доносчик и судья.
Я за решеткой. Я попал в кольцо.
Затравленный, оплеванный, оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется — я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
и пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот: «Бей жидов, спасай Россию!» —
насилует лабазник мать мою.
О, русский мой народ! —
Я знаю — ты по сущности интернационален.
Но часто те, чьи руки нечисты,
твоим чистейшим именем бряцали.
Я знаю доброту твоей земли.
Как подло, что, и жилочкой не дрогнув,
антисемиты пышно нарекли
себя «Союзом русского народа»!
Мне кажется — я — это Анна Франк,
прозрачная, как веточка в апреле.
И я люблю. И мне не надо фраз.
Мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели.
Как мало можно видеть, обонять!
Нельзя нам листьев, и нельзя нам неба.
Но можно очень много — это нежно
друг друга в темной комнате обнять.
Сюда идут? Не бойся — это гулы
самой весны — она сюда идет.
Иди ко мне. Дай мне скорее губы.
Ломают дверь? Нет — это ледоход…
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно, по-судейски.
Все молча здесь кричит, и, шапку сняв,
я чувствую, как медленно седею.
И сам я, как сплошной беззвучный крик,
над тысячами тысяч погребенных.
Я — каждый здесь расстрелянный старик,
Я- каждый здесь расстрелянный ребенок.
Ничто во мне про это не забудет!
«Интернационал» пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому —
я настоящий русский!
Это написано в 1961 году, Евтушенко всё ещё молодой, но уже вполне созревший поэт со своим лицом (у Есенина: «И кажется, по имени назвать / Меня в стихах любое может слово»). Евтушенко выработал «своё слово» , уже на своей вершине. Это стихотворение совсем не обязательно выкрикивать перед толпой, его даже лучше читать напечатанным. Тогда оно ясней и глубже задевает чувства.
Злые языки часто говорили про Евтушенко, что ему много «было позволено» советскими властями, за что других поэтов наказывали. Даже независимый в творчестве Иосиф Бродский сказал про него: «Он бросал камни только в том направлении, которое было официально санкционировано и определено». По-моему, это неоправданно некрасивое высказывание.
Ничего подобного официальному санкционированию в жизни и творчестве Евтушенко не было — он сам себе позволял, что хотел, и суровая советская власть не могла с ним справиться. Известно, что как-то раз Хрущёв сказал про непокорную власти старую писательницу Мариэтту Шагинян: «Горбатого могила исправит», на что Евтушенко мгновенно выкрикнул ему: «Хватит уже нас могилами исправлять!». И когда 21 августа 1968 года, было произведено вторжение советских войск в Чехословакию, чтобы подавить там стремление к свободе, Евтушенко уже 23 августа написал смелое стихотворение:
Танки идут по Праге…
Танки идут по правде…
* * *
История написания «Бабьего яра» — яркий пример поэтического совершенства и гражданской смелости Евтушенко. Он написал «Бабий яр» по зову души и совести, в укор антисемитизму власти и даже без надежды опубликовать его. Редактор «Литературной газеты» Косолапов проявил смелость, опубликовав стихотворение на свой страх и риск, и его сняли с работы за публикацию. На Евтушенко обрушились литературные враги-антисемиты, крупные писатели. В «Комсомольской правде» напечатали ответ поэта Маркова:
Какой ты настоящий русский,
Когда забыл про свой народ?…
… Душа, как брючки, стала узкой.
Но власть трогать Евтушенко не посмела — он был настолько популярен в народе, что приходилось смиряться перед ним. И после «Литературной газеты» стихотворение «Бабий яр» было переведено на все языки мира и обошло все страны. Оно вдохновило композитора Дмитрия Шостаковича написать в 1963 году Тринадцатую симфонию, с голосовым цитированием самого Евтушенко. Это был яркий пример творческого единения опального композитора с непокорным поэтом. Власть тормозила исполнение симфонии, пугала тех, кто хотел участвовать, с трудом разрешила только три концерта. Вся интеллигентная Москва стремилась попасть на исполнение этого синтеза музыки и стихов. Евтушенко сидел среди оркестрантов и по сигналу дирижёра Кирилла Кондрашина встал и прочел несколько строк из стихотворения. Как настоящий опытный трибун, он выкрикивал строки абсолютно совершенно. Я был на одном из исполнений в Большом зале Московской консерватории и видел, какой восторг вызвали у публики музыка и стихи.
* * *
За долгую жизнь у Евгения Александровича было много творческих достижений. Все их даже трудно перечислить. Но одна из них — это создание «Антологии русской поэзии», 1999 года (вместе с Евгением Витковским). Это колоссальный труд!
В толстый том из 1056 страниц включены стихи 875 русских поэтов, без деления их на дореволюционную, советскую, эмигрантскую. Впервые русская поэзия представлена в этой антология с такой полнотой. Это труд и заслуга интеллекта Евгения Евтушенко.
Жизнь ему была дана долгая. Он пережил шестидесятников, глубоко страдал и переживал многое личное, потерял здоровье, лишился ноги, его сердце поддерживал вшитый в грудь дефибриллятор. Умер Евгений Александрович в возрасте 84 лет, уже давно тяжело больным. И по всему миру прозвучала грустная весть о его смерти. Он был поэт России, а поэт в России — больше чем поэт.
Мы все, кто любит русскую литературу, переживаем его смерть как потерю близкого по духу человека. Я вспоминаю строчки Беллы Ахмадулиной про её сон о Евгении Евтушенко, ещё живом:
Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив – и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы судите.
Вам по ночам другие снятся сны.
Апрель, 2017 год
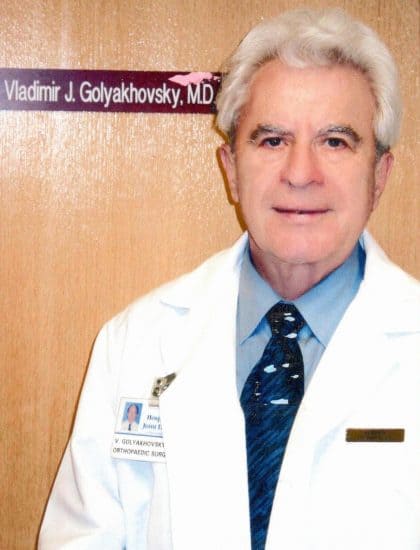 Об авторе публикации. Читатели нашего журнала хорошо знакомы с Владимиром Юльевичем Голяховским. Его публикации регулярно появляются в «Лицее». Огромный интерес вызвала его документальная повесть о Майе Плисецкой «Нога балерины», публикации «Писательский пароход», «Старик Чуковский вас заметил…» и другие.
Об авторе публикации. Читатели нашего журнала хорошо знакомы с Владимиром Юльевичем Голяховским. Его публикации регулярно появляются в «Лицее». Огромный интерес вызвала его документальная повесть о Майе Плисецкой «Нога балерины», публикации «Писательский пароход», «Старик Чуковский вас заметил…» и другие.
Владимир Голяховский — советский и американский хирург-ортопед, учёный-медик и писатель. Свою профессиональную жизнь начинал в Петрозаводске.
В. Голяховский — автор многих известных книг автобиографического и художественного характера. Им выпущено восемь детских книг стихов, которые он сам иллюстрировал.




5 комментариев