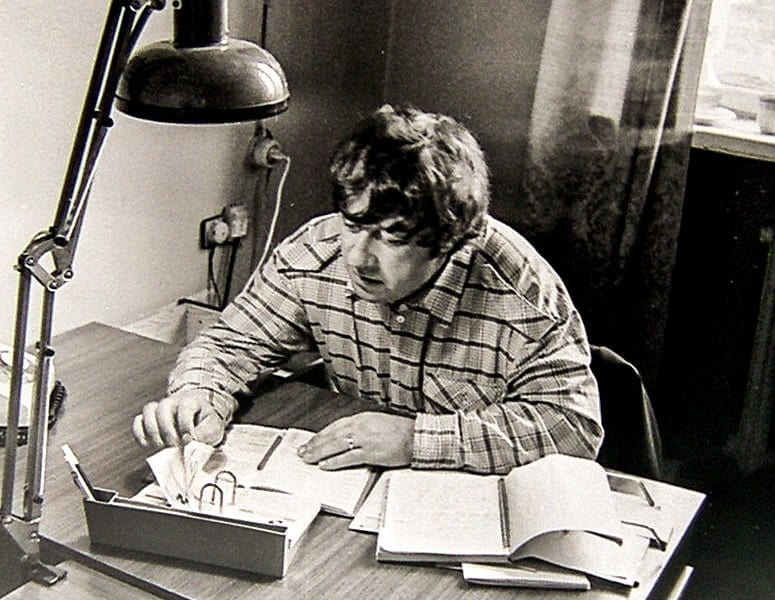
Изданы дневники и стихи талантливого, рано ушедшего из жизни сегежского литератора и журналиста Валерия Леонтьева
Публикация в газете «Лицей» в 2009-м отрывков из дневников и писем 1980-х-1990-х годов Валерия Леонтьева под названием «Люблю и жалею всех…» вызвала огромный резонанс у наших читателей, и не только в Карелии. Ее подготовил, как и обе книги, друг Валерия, журналист Анатолий Серебренников. Он вспоминает о друге и предлагает подборку стихов Валерия Леонтьева.
Как-то так получалось, что мы с самого раннего детства всегда были рядом друг с другом, даже если нас разделяли сотни вёрст. И его, и меня спасал один и тот же хирург. Совсем недавно я узнал, что первый муж его матушки, танкист, погиб в один день с моим дядькой, десантником, 28 марта 45-го в Балатонской операции, есть даже кинохроника того страшного боя, целых полторы минуты…
Мы жили в одном доме, в соседних подъездах. Я ещё застал его отца, тоже фронтовика, который вскоре куда-то пропал. Оказалось, его отправили на Валаам. Будучи спустя много лет в командировке на острове, я пытался было отыскать его могилу, но то, что мне показали тогда, меньше всего походило на кладбище. Немного земли, взятой там, я высыпал на могилы друга и его матушки.
В 1999 году наши пути разошлись, многолетняя переписка оборвалась. Друг остался в прошлом, в двадцатом веке. К концу своей недолгой земной жизни он уже чувствовал, знал, что обещанного всем светлого будущего за порогом 2000 года не будет. Почти тридцать лет он ежедневно вёл записи в дневниках, день за днём, день за днём. Мечтал написать автобиографическую повесть, а получилась исповедь, местами мучительная и жестокая – жизнь и смерть талантливого человека на общем фоне постепенного, день за днём, разрушения великой страны. Был рабочим, токарем, слесарем, работал на радио, в газете, руководил Сегежским литературным объединением «Лира». Стихи он сам писал с детства.
14 мая Валерию Алексеевичу Леонтьеву исполнилось бы 70 лет (1951 — 1999).
Валерий Леонтьев. Стихи
Не взыщите…
Знак ли будет свыше, глас ли вещий
Холодком пронзит сплетенье жил…
Отпишу наследникам три вещи –
Что припас, чем в жизни дорожил.
Вид у первой несколько плачевен:
Весь в заплатах, будто в струпьях ран,
Дым костров, впитавший чад харчевен,
В кой-то веки нажитый кафтан.
А вторая с той одёжкой рядом,
Победней, чем нищета сама,
Вьюгами побитая и градом
Пирогов не знавшая сума.
Уж такой отмечен был судьбою:
Не едал на злате в терему.
Всё своё всегда носил с собою –
И кафтан, и посох, и суму.
Посох в час, когда в глазах рябило,
Спас меня у бездны на краю.
…Не взыщите, милые, что было,
Без утайки всё вам отдаю.
Старая школа
Пахло тёсом, скипидаром,
И мостки, как островки,
Протянулися к базару,
Лучезарны и легки.
Справа частник, частоколье,
На цепи собака-зверь.
А повыше – наша школа, —
Сине крашенная дверь…
Всё вокруг переменилось,
Нет от школы той следа.
Почему, скажи на милость,
Так влечёт меня туда,
Где крыльцо ремонта просит
И ворчит от дробных ног.
Где в руках у тёти Фроси
Разом тряпка и звонок,
Где доску линуя мелом,
Ты учила буквам нас,
Где уютно печь гудела,
Не кладут таких сейчас,
Где от третьей парты с краю
Я девчонки взгляд ловил…
Вспоминаю, вспоминаю…
Старой школы не забыл.
Улица Гористая
Улица Гористая. На домах скворечники,
Треск моторов лодочных, как от бензопил.
Старики на пристани. Разговоров реченьки.
И за кромку озера город отступил.
То ли здесь окраина с деревенской бытностью,
То ль посёлок около городской черты:
Близкая и дальняя, радуя обжитостью,
Улица Гористая навела мосты.
Огороды, садики вперемежку с избами,
А над ними светлые дружные дымки.
Как на чудо дивное, я любуюсь издали
Панорамой улицы, вставшей на дыбки.
Улица Гористая, тропка каменистая,
Над губою Пулькиной ветерок притих.
Не гуляют девушки нынче с гармонистами,
Волокут транзисторы ухажёры их.
Маячок с треножника начинает щуриться,
Скоро лес потянется вслед за катерком:
Я прошу художников: «Нарисуйте улицу,
Улицу Гористую в городе моём».
Лейгуба
Лейгуба, Лейгуба!
Даль светла и голуба.
Здесь, над озером восход
Алым галстуком цветёт.
Ранний птичий пересвист
Заглушил на миг горнист,
И тотчас же запестрел
Луг от наших гибких тел.
Лейгуба, Лейгуба!
Мчится весело гурьба.
Я за ней, она — за ним
К звонким струям дождевым
С полотенцем за плечом.
Мне хвороба нипочём,
Мы здоровы и крепки,
Как в лесу боровики.
Лейгуба, Лейгуба!
Далеко ведёт тропа.
То дожди, то душный зной,
Стал туристом, брат, не ной!
Но зато уж с плеч гора
У желанного костра.
Повара, ребята наши, —
Мастера готовить кашу.
За свои тринадцать лет
Я не ел такой обед —
Чуть припахнувший дымком
Под сосновым потолком.
Лейгуба, Лейгуба:
Детских лет моих судьба,
Васильковые луга,
В лёгкой пене берега,
Пионерские костры
Дивной, памятной поры.
Лейгуба, Лейгуба:
Даль светла и голуба…
Прощание с белой ночью
Чуть прогорклый ветер с Луусалми
Разметал над озером закат.
И стрекозы с томными глазами
Бальным опереньем шелестят.
Дальний берег сделался молочным
И вознёсся к соснам невесом…
Тихо-тихо вслед за белой ночью
Отошёл от пристани паром…
Романс
На кухонном столе
Клеёнка новая,
И листья виноградные –
Кленовые.
А вот он красный клён,
Как будто раненый.
А я опять влюблён
И неприкаянный.
Хожу туда-сюда,
Как зверь по клеточке,
А мне нужна еда
И в мини девочки.
Ах, миловидные,
Ах, неприступные,
Ах, потаскушечки
Мои бездумные.
И не хочу я вас,
И не желаю впредь,
А мне бы в самый раз
Сегодня помереть.
Так нет же, нет же, нет,
И не подумаю!
Вот приведу к себе
Красотку юную.
И будем с нею мы,
Пока расхочется!..
Страшнее нет тюрьмы,
Чем одиночество…
* * *
Простой верёвкой бельевой
Очерчен круг моих владений.
Зароюсь в сказку с головой,
В отроческий уют видений.
О, как безмерно далеки
Злодеи и пороки века!
Ужель тот самый я Валерка, —
В зелёных пятнах локотки?!
Несу таким, как сам, муру,
Но не слыву меж ними вралью.
Чего ж теперь не по нутру
Сорокалетних воркованье?
Мой новый круг похож на пляж:
Та дева явно перезрела…
А тот сомнительный типаж
Размяк от виноподогрева…
Бери её, с чем хочешь, ешь:
Тащи в кусты иль шествуй к трону…
Отполированная плешь
Прильнула к модному шиньону…
* * *
На кухне тропики, как на заказ,
Бельё развешано и топят газ,
Растут растения оранжерейные,
И дети малые играют в нас.
Ах, коммунальное житьё-бытьё,
Навек запомнится тепло твоё,
Долг – до авансика, урчанье Барсика,
В глазах которого стоит: «Жульё!».
Ты прав, животное, вся жизни суть,
Что ласка – видимость, и могут пнуть.
Такое запросто, легко и пакостно,
Но ты, животное, их выше будь!
А в целом добрый наш соседский люд,
И даже в хаосе есть свой уют.
Под знаком минуса живём и миримся:
Вполне отходчивый наш коммунальный суд.
* * *
Лишь стоит лист в машинку заложить, —
Такой простор игривому безделью:
Слова растут, их хватит на неделю,
Их можно впрок с грибами насушить.
Среди зимы июлем вдруг пахнёт,
Затопит шумом радостного бора,
Привет тебе, увидимся нескоро!
А, впрочем, завтра выступлю в поход.
На тропах наузорю лыжный след.
На волю! От долгов, чем так повязан,
На этот Божий неоглядный свет,
Один уйду, порву все нити разом!..
А, впрочем, не пойду, и не суди,
Ведь то не я, то лист зудит в машинке
И строит мне противные ужимки:
«Да, ладно уж, не дёргайся, сиди!».
И день прошёл, и новый наступил
В спецовке и рабочих рукавицах.
И… гроб стоит на шатких половицах,
А я всё верю – час мой не пробил…
* * *
Беда из пропасти глядит оскалом
Пород и безобидных ручейков.
Да разве мне карабкаться по скалам,
Смотрящему на всё из-под очков?..
О, Господи, так хочется пожить!



Публикацию подготовил Анатолий Серебренников




2 комментария